Мама пахла так же, как в детстве — тёплой одеждой и чем-то сладким из кухни. Обняла её, и вроде бы тепло… но в голове шумит, как в плохом радиоприёмнике, который никак не настроить.
Работа смертью медленно, но верно превращает мозги в кашу. Думаешь: «привыкну», — ага, щазз! Каждый день — новые лица, в которых только что погас свет, и чьи-то руки, которые уже никогда никого не обнимут. Это липнет, как капля дождя на щеке, — вроде и не слезы, но вытереть всё равно хочется.
И вот я — бессмертная, вроде как «не прощаюсь навсегда», а всё равно горюю.
Отлично, Киана, вечность у тебя есть, а мозги всё такие же человеческие.
О семье я знаю только маму и папу. Всё остальное — сказки для особо доверчивых. Когда пыталась вытащить хоть что-то, ответы скользили, как кот по линолеуму.
И тут мне пишут: «
Умер ваш дедушка. Оставил вам наследство». Дедушка. Мой. Серьёзно? У меня их в природе не водилось.
Это похоже на знак. Или на издёвку. Не знаю, что хуже.
— Мам… кем он был? — стараюсь держать лицо, но голос, предатель, дрожит.
Она отвела взгляд. Классика. И выдала ровно столько, чтобы я не закипела, но и не успокоилась. Остальное — копай сама.
Да, я всё ещё злюсь на неё за старое. Но теперь понимаю: пора перестать играть в вечную дочку и начать копаться в своём прошлом. Хоть вилами, хоть ложкой, но докопаюсь.
Папа вышел на связь быстрее, чем я успела выдохнуть после маминого «сама разбирайся». Видимо, она всё-таки решила, что это не просто любопытство, и решила послать в бой тяжелую артиллерию.
Разговор с отцом оказался совсем другим — он сразу начал с главного: про своего отца, их странные отношения и место его рождения. А потом добавил:
«Но лучше не ищи. Моего рассказа тебе вполне хватит».
Ну да, конечно. Я же, как всегда, должна удовлетвориться чужим пересказом и сидеть тихо.
Оказалось, у меня есть кучи тёть и дядь. Даже племянники. Правда, про них папа ничего не знает — семейка у нас, видимо, вся как паутина: много ниток, но никто не уверен, куда они ведут.
В конце он сказал:
«Если уж так приспичило кого-то увидеть, начни с моей сестры Рори. Она вменяемая. Ну, насколько это возможно в нашей семье».
Я почувствовала, как внутри что-то сдвинулось. Да, я знала, что папа оборотень — тут без вариантов, и во мне, помимо маминой вампирской, течёт и эта кровь. Но сейчас всё было по-другому: как будто сама луна, круглая и живая, кивает мне с ночного неба —
иди.
Впервые за долгое время я поймала себя на том, что хочу не просто узнать, а соединить. Сложить куски в картину. Может, даже попытаться собрать семью, хотя бы из тех, кто ещё не совсем сошёл с ума.
Я уже была готова сорваться хоть этой же ночью — хоть босиком по асфальту, хоть автостопом до конца света — лишь бы увидеть этих загадочных родственников. Но мозг, зараза, подкинул другую мысль:
«Может, для начала соберём себя в кучу? А то приедешь туда с глазами енота после помойки, и впечатление будет… незабываемое».
Так что я взяла паузу.
Интернет, библиотека, даже архивы в особняке смерти — вытаскивала оттуда всё, что могло быть связано с папиной роднёй. Параллельно приводила в порядок свои потрёпанные нервы — спасология оказалась на удивление работающим методом.
Серьёзно, стоило попробовать раньше.
И тут, как снег на голову, прилетает новость: мне присваивают именную звезду. Несколько моих книг стали бестселлерами, и вот теперь у меня «своя» точка на небосводе. Круто? Ну… наверное.
Я порадовалась ровно пять минут. Потом вспомнила, как мне уже надоели вечно тычущие в лицо камеры и обязательная «сияющая» улыбка на публике. Когда-то это всё грело самолюбие, а теперь больше похоже на зуд.
В общем, решила: звезда — приятный бонус, но карьеру писательницы пора закрывать. По крайней мере, до того, как меня окончательно закроют в глянцевом образе, из которого не выбраться.
Мунвуд Милл встретил меня глухим шёпотом леса. Одна убогая одноколейка, по краям которой асфальт уже давно сдался природе. Вокруг — деревья, деревья, и ещё немного деревьев, чтобы не расслаблялась.
Я подготовилась к этой вылазке по всем правилам конспирации: резиновые сапоги, длинная чёрная кофта, капюшон на пол-лица. Ни сантиметра кожи, ни шанса, что кто-то узнает меня с первого взгляда. Папа дал примерное направление, карты добавили картину — и вот я уже стою в деревушке на пару домов.
Пусто. Не то что людей — даже собака не пробежит. И тишина такая, что мурашки побежали по спине строем. Чёткое чувство: меня видят, слышат и, возможно, уже считают добычей. Ну, что поделать — летучая мышь на волчьей территории. Не заметить меня они точно не могли.
Небо на горизонте хмурилось, гремело. Скоро ливанёт — и это плюс: смоет запах. Я машинально потянулась к телефону, но тут же одёрнула себя. Слишком часто в последнее время прячусь за экраном, а сейчас нужно быть здесь.
Рори появилась через десять минут. Шла спокойно, будто знала, что я всё это время стою и считаю её шаги.
— Киана? Это ты? Я тебя с трудом узнала, —сказала она.
— Ты меня знаешь? — не удержалась я.
— Нет. Лэр пару раз показывал твои фото. Запомнила. Ты очень красивая.
Неожиданно. Но приятно. Разговор потёк легко, как будто мы старые знакомые. Рори оказалась женщиной редкой породы: умной, сильной и… настоящей. От неё веяло опытом и той внутренней уверенностью, которую никакая маска не подделает.
Она рассказала о своём отце — о том, как он мечтал сделать клан сильнейшим в лесу, даже если придётся идти по головам. Это было не её. Она ушла и создала свой клан — тех, кто признаёт других существ и умеет с ними жить в мире.
Когда мы расстались, я долго стояла на границе леса. Думала о том, что теперь мой путь разветвился. И пора решать, по какой тропе я пойду дальше.
Я шла по деревне, даже не глядя, куда ноги несут. Мысли крутились, как листья в водовороте: Рори, клан, отец, дед… Лёгкий дождь только добавлял ритма этим мыслям.
Свернула куда-то — и, честно, заметила это уже слишком поздно. Дома стали редеть, а потом и вовсе исчезли, уступив место чему-то странному — каменные проломы, ведущие в тёмный провал. Катакомбы.
Отлично, Киана, браво.
Дождь перешёл в ливень, и выбора не осталось: либо мокнуть до костей, либо спрятаться в этом каменном чреве. Я выбрала второе.
Только успела сделать пару шагов внутрь, как почувствовала… дыхание. Сбоку. Тёплое, слишком близкое. Я резко обернулась — темнота. Никого. Но горло уже перехватило, а сердце выбивало барабанную дробь.
— Если кто-то думает, что сейчас самое время для нападения, — голос мой звенел чуть выше обычного, —
то предупреждаю: я за себя не ручаюсь!
В ответ — смешок. Неспешный, чуть насмешливый. И из тьмы вышел мужчина. Симпатичный, с шрамом на лице и… знакомыми чертами. Слишком знакомыми.
— Я чувствую в тебе мою кровь, — сказал он. —
Ты ведь дочь моего сына, не так ли?
Я молчала.
— Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Меня зовут Кристофер Волков. А ты, значит, моя внучка. Как тебя зовут?
— Киана, — ответила я, глядя ему прямо в глаза. Страх никуда не делся, но бравада уже встала на пост. Если уж судьба решила сыграть этот козырь, то я не собиралась падать в обморок.
Большой Волк хмыкнул и заговорил, глядя куда-то поверх моей головы, туда, где дождь размывал силуэты деревьев.
— Знаешь, мой сын… ведь он уничтожил мой клан. Когда ушёл — это было одно. Но он вернулся… вернулся, чтобы привести зверя, страшнее любого, кого я видел. Он разрушил мою жизнь. Почти лишил меня её.
Я сглотнула. Слова ложились тяжело, будто он кидал в меня мокрые камни.
— Но знаешь что? — он чуть усмехнулся, и в этой усмешке было что-то хищное. —
Из всех своих детей только его и Рори я по-настоящему уважаю. Потому что они несут в себе мой дух, мою кровь, мою силу и мою волю.
Он перевёл взгляд на меня, и на секунду мне показалось, что дождь за спиной стал гуще.
— И я рад, что встретил тебя, Киана, — сказал он тихо, почти по-отечески.
— Ты — продолжение моего наследия.
Я не знала, что ответить. Где-то под кожей шевельнулось что-то древнее, волчье, а разум пытался понять, радоваться ли этому признанию… или насторожиться.
Теперь я понимала, почему когда-то мои родители выбрали бегство. Почему отбросили всё, что знали, чтобы начать сначала. В ту ночь я дошла до дома как в тумане — ни дороги, ни времени, ни самой себя толком не помню.
Слова дедушки застряли под кожей. Смертельной опасности я не чувствовала, верилось, что он не тронет меня. Но было в нём что-то… древнее. Как тёмный лес, в который лучше не заходить одной, но в который всё равно тянет.
Войдя в дом, я вдруг увидела его иначе. Всё, что казалось моим оплотом, выглядело теперь просто вещами. Я взяла телефон, пару кнопок — и дом ушёл с молотка. Без сантиментов.
Собрала вещи в два чемодана. Погрузила животных. И уехала. Смерти я так ничего и не сказала — ни о дедушке, ни о том, что больше не вернусь.
На этот раз я решила не бросаться в омут с головой. Дом покупать не стала — для начала просто сняла жильё. Посмотреть район, приглядеться к людям, понять, стоит ли тут задерживаться. Видимо, во мне всё-таки живёт какой-то зачаток здравого смысла, который иногда просыпается и делает вид, что контролирует ситуацию.
Дом оказался светлым, с окнами во всю стену. Солнца — море. Для вампира стопроцентный кошмар, но меня это не трогало: мы с солнцем уже давно на «ты».
Перевезла животных, включая ворона. Начала обустраиваться. Сказать, что это было просто — соврать. В процессе умудрилась разбить телефон, и все контакты, фото, заметки ушли в небытие. Новый аппарат в руках ощущался как чужая рука — вроде функциональная, но не своя.
Морда, в отличие от меня, освоился моментально. Новое место ему явно нравилось больше прежнего. Иногда он садился на подоконник и смотрел в окно так, будто уже придумал, что будет делать дальше. Может, и мне стоило у него поучиться.
Я стояла со свечой в руках перед маленькой могилой. Луна не пережила переезд. Я знала, что это может случиться — она была старенькой, уставшей… Но всё равно сердце сжалось так, будто меня обокрали.
Мелкий гад, разумеется, не заметил потери бойца. Он уже захватил весь дом, превратил каждый подоконник и даже кухонный стол в свою личную кровать. Живёт, как король, которому всё нипочём.
А я… я ловила себя на мысли, что мир снова проверяет меня на прочность. Сначала дед, теперь Луна. Я слышала её призрачное мяуканье по ночам, и часть меня упрямо верила: она - рядом.
Но мысли были жёсткими:
«Серьёзно, Киана? Даже кошка решила уйти. Может, дело и правда в тебе?»
Добавим к этому ремонт, который идёт не так, как я хотела. Я вся в краске, как уличный художник после трёхдневного марафона, а цвет для мастерской так и не нашёлся. Хотела место силы — а пока что получается склад банок с краской и моих нервов.
Да, если подытожить: новая жизнь пока больше похожа на экзамен без подготовки. Но отступать я не собиралась.
Спустя несколько дней я сидела на мансарде, за огромным столом, окружённая цветами и солнцем. Стены всё ещё в базовой краске, но впервые за долгое время я улыбалась по-настоящему.
Сегодня пришла посылка. Коробка с аккуратно уложенными баночками, тканями, милыми мелочами для дома. И письмо.
Некий человек —
поклонник? друг? тайный союзник? — писал, что восхищается моим талантом и верит, что я могу создать свой собственный бренд. Что у меня есть то, что вдохновляет других. И что эта коробочка — первый шаг.
Я несколько раз перечитала письмо, будто заклинание. И чем больше читала, тем сильнее чувствовала, что внутри меня просыпается то самое забытое чувство — желание творить. Настоящий приступ вдохновения, почти болезнь.
Я хотела делать всё сразу: рисовать, шить, переделывать дом, запускать мастерскую. Хотелось не просто жить — хотелось жить красиво.
И в этот момент я поняла: иногда достаточно одного письма, чтобы вернуть себе вкус к жизни.
В тот момент я поняла: с карьерой Смерти покончено. Я доросла до всего, что только можно, и дальше идти уже некуда. Да и, честно говоря, чувствовать себя самой смертью — это, конечно, пафосно, но невыносимо скучно.
И тут пазл сложился. Я давно хотела открыть своё место — мастерскую, вернисаж, где люди могли бы приходить, обмениваться опытом, творить, спорить о цветах и кистях, а потом дружно пить чай с печеньем. Пространство, где все равны, но каждый в своём безумии.
Документы оформила за две минуты: ИП через телефон, пара кнопок — и я официально хозяйка.
И вот двери моего маленького, уютного заведения распахнулись. Я думала:
ну, в глуши народу будет немного, будут приходить по капельке. Ага. С первых же дней хлынул поток — соседи, друзья, знакомые знакомых. Я даже испугалась, что места всем не хватит. Хотя вроде бы считала каждый метр.
Это было похоже на чудо. И впервые за долгое время я почувствовала: вот он, мой настоящий вектор.
С дипломом всё вышло… ну, как сказать… прошла я его «на зубах». Не потому что не могла — просто уже не горело. Писательство перестало тянуть, я доучилась скорее «чтобы было». Но всё равно закончила на отлично — пусть и не с самой-самой категорией, зато с пятёрками, как положено приличной вампирско-оборотневой студентке.
И вот я сижу с этим дипломом, смотрю на него и думаю:
ну окей, галочку поставили. Но внутри у меня уже был другой огонь. Казалось, мир наконец-то приоткрыл все двери, и только успевай выбирать, куда войти.
А тут — поворот. Декан моего факультета (по филологии, внимание!) вдруг предлагает мне стать… адвокатом. Да-да, адвокатом. Я даже переспросила:
«Вы серьёзно? У меня же диплом филолога. Я же словами жонглирую, а не законами».
Он улыбнулся и сказал, что именно поэтому у меня получится.
И, как ни странно, мне понравилась идея. Может, потому что в ней чувствовался вызов. Может, потому что адвокатура — это тоже текст, только с ещё большими ставками.
И я согласилась.
Так что, да: Киана Хоуторн, бывшая Смерть, недо-всемирная-писательница и начинающая хозяйка мастерской, теперь ещё и адвокат.
По закону я должна была ещё две недели отработать на старом месте — формальность, конечно, но теперь, когда я «почти юрист», спорить с буквой закона как-то несолидно. Последний день должен был быть максимально скучным: проверить, забрать душу, расписаться — и домой.
Но, разумеется, в моей жизни не бывает все просто.
Сегодня несколько духов вдруг решили устроить бунт. Нормально так — прямо на мою смену. Им приспичило проделать брешь и попробовать утечь в мир живых. А я по инструкции должна была проверить и вернуть беглецов назад. Рядовая работа.
Вот только в этот раз рядовой она не оказалась.
Я вошла в портал — и сразу поняла: что-то не так. Ни тебе привычного загробного коридора, ни разноцветных призраков-оболочек, с которыми я уже разговаривала на автомате.
Вместо этого вокруг раскинулся мир, разорванный на куски: в воздухе висели острова, камни плавали, как рыбы, а всё пространство было залито розовым маревом, мягким и тревожным одновременно. Казалось, это место забыто столетия назад, заброшено даже смертью.
Я замерла, чувствуя, как волосы на руках встают дыбом.
И где я вообще? И главное — зачем я здесь?
Чтобы добраться до ближайшего острова, пришлось обратиться к старым фишкам: летучая мышь
форевер. Ни моста, ни верёвки, ни даже жалкой тарзанки между этими каменными глыбами — только прыжок в неизвестность.
Как люди/нелюди тут живут?
Я перелетела пропасть и мягко опустилась на брусчатку. Камень был влажный, холодный, и от этого сразу пробежал озноб. Вокруг — дома: целые, разрушенные, наполовину развалившиеся. А остатки мебели и посуды висели в воздухе, покачиваясь, как будто невидимая рука всё ещё держала их там. Я смотрела и не могла отвести глаз. Этот мир был странный, тревожный и завораживающий.
В моменте я услышала шаги.
— Что ты здесь делаешь?! — голос разрезал тишину.
Я вздрогнула, повернулась — мужчина буквально набросился на меня словами. Его лицо было искажено яростью.
— Ты не имеешь права находиться здесь! Откуда ты взялась? Убирайся немедленно!
Он был так близко, его дыхание ударяло в лицо. Я отшатнулась и почувствовала, как спина уткнулась в чьё-то плечо. Сердце ухнуло вниз, пальцы сами сжались в кулаки.
— Прости его, — услышала за спиной спокойный голос. Совсем другой, тёплый. Я резко обернулась — второй мужчина. Его глаза были серьёзные, но без ненависти. —
Не бойся. Я помогу тебе выбраться.
Он шагнул вперёд, встал между мной и этим яростным существом, тот отступил, но продолжал сверлить меня взглядом. От его глаз хотелось отвести лицо, но я не могла — будто меня держали невидимые когти.
— Пойдём, — сказал второй, почти шёпотом, но так, что я не смогла ослушаться.
Я не поняла, как оказалась у арки. Его рука крепко держала меня за локоть, и в следующее мгновение мир рванулся, потемнел и снова сложился — уже в знакомых красках. Пригород. Дома. Мокрый асфальт. Всё моё.
Телефон пискнул. Я достала его — экран мигал десятками пропущенных. Десять от папы. Десять от Рори.
Я стояла, не веря до конца, что снова дома. Внутри гудело одно: я там была.
Они знают.
Телефон дрожал в руке. Я нажала на имя папы — и он ответил сразу, как будто держал палец на кнопке всё это время.
— Киана! — его голос был сорван, тревожный. —
Где ты была?
Я молчала слишком долго. Потому что? что сказать? «
Привет, папа, я тут зашла за беглыми душами, а вышла в разорванный мир, где мебель висит в воздухе, и чуть не поссорилась с каким-то психом»?
— Я… была в работе, — выдавила я.
— Не ври. Я чувствовал. Ты попала туда. — Голос его дрогнул.
— Киана, туда ходил только один человек из нашей семьи… и он не вернулся.
Я почувствовала, как земля под ногами пошатнулась.
— Кто? — мой голос прозвучал тише, чем я хотела.
— Наш дед, Джон Волков, — вмешался второй звонок. Я даже не заметила, как включила параллельную линию — Рори. Её голос был твёрдый, как сталь. —
И если он там…
Я вцепилась в телефон так, что побелели пальцы. Всё внутри зашумело: слова деда о «моём наследии», взгляд Рори, тишина мамы. Всё начало складываться в слишком страшную картину.
— Почему вы мне не сказали? — прошептала я.
Ответа не было. Только дыхание двух голосов, которые молчали слишком громко.
Я пыталась выбросить из головы всё, что только что услышала. Ну правда, может, это была игра призраков? Загробный мир любит шутки похлеще — вдруг мне просто показалось. Мир с островами, мужчина в ярости, арка, звонки папы и Рори… Наверное, нервное истощение. Всё у меня хорошо. Всё нормально.
Я вернулась в вернисаж, и там было совсем другое дыхание. Люди приходили каждый день. С улыбками, с руками, полными идей и заготовок. Кто-то тянул за собой друзей, кто-то приводил детей. Я помогала, советовала, показывала, как довести до конца их работы, и ловила восторг в глазах.
Я поражалась им: таким трудолюбивым, увлечённым. Они не только творили, но и ценили моё время, мои усилия. Денежка за мастер-классы капала честно и легко, а я ловила кайф не от денег, а от того, что это было
правильно.
Я ходила между столами, поправляла чью-то вазу, помогала шлифовать дощечку, подсказывала, какой цвет смешать. И каждый раз, когда очередной гость поднимал на меня глаза, я знала, что сказать. Слова сами находились, как будто это и было моё настоящее призвание.
В такие моменты я чувствовала себя на своём месте. По-настоящему.
Я проснулась в солнечное утро — и сразу почувствовала, что что-то не так. Моё тело словно окостенело. Камень. Он тянул кожу, холодил изнутри, словно я превращалась в статую.
Сначала пришла грусть. Тяжёлая, вязкая, без конца и края. Мысли о моём бессмертии и о том, что всё вокруг рано или поздно рушится. Я лежала и слушала, как мир живёт, а мне казалось, что он проходит мимо.
А потом всё исчезло. Словно кто-то щёлкнул выключателем. Эмоции схлопнулись. Ни печали, ни радости, ни страха. Пустота. Вакуум.
Я ходила по дому, как чужая, и не понимала, что со мной происходит. Ноги сами вынесли меня к старому кораблю на окраине. Город давно превратил его в «достопримечательность», но для меня он был чем-то другим. Стояла, смотрела на обшарпанный корпус, на девушку — каменную фигуру на носу, и не знала, зачем.
Когда вернулась домой, на пороге Вернисажа стоял человек. Солнце било в глаза, и я щурилась, пытаясь разглядеть лицо. Оно было странно знакомым.
— Здравствуй,— сказал он. Его голос был низкий, спокойный, будто я слышала его прежде. —
Помнишь меня?
Я вглядывалась и не могла понять: где я его уже видела?
— Я Рой, — он шагнул ближе, и я наконец уловила ту самую интонацию. —
Я тогда помог тебе выйти из волшебного мира.
У меня пересохло во рту. Он помолчал и добавил:
— У меня к тебе дело.
— Слушай… — мужчина сделал паузу, будто подбирая слова. —
Пожалуйста, не держи зла на моего брата. Тайлер… он был не в себе. Он испугался, а страх делает людей жестокими.
Я вскинула бровь.
«Не в себе» — мягко сказано, подумала я, вспоминая его глаза, полные ярости.
— Пожалуйста, встреться с ним. Нам очень нужна твоя помощь. Я не могу всего рассказать, — Рой отвёл взгляд, будто за его плечом уже звала тень.
— У меня нет времени. Но он объяснит.
Он достал сложенный листок, протянул мне.
— Вот место и время. Там он будет ждать тебя.
И прежде, чем я успела хоть что-то сказать, он развернулся и ушёл.
Я осталась на пороге с листком в руке и комом в горле. Всё это было похоже на ловушку. Но внутри уже зажглась искра любопытства.
Город гудел. Фестиваль. Фонарики, гирлянды, запах жареной еды, смех. Всё было слишком ярким и слишком живым, чтобы я чувствовала себя частью этого. Я села за столик, притворяясь, что просто отдыхаю, и ждала.
И вот он появился. Тайлер.
На этот раз без бешеных глаз и звериной злости. Наоборот — тихий, почти осторожный. Он поздоровался, сел напротив и какое-то время просто молчал, будто боролся с самим собой.
— Прости, — сказал он наконец.
— За тот раз. Я повёл себя неправильно. Твоё появление… вампир в нашем мире… это было неожиданно.
Я хотела возразить, что его «неожиданность» чуть не стоила мне жизни, но он продолжил, не дав мне и рта раскрыть:
— Арка не пропускает никого, кроме магов. Иногда даже убивает тех, кто пытается. Но ты прошла. Это… невозможно. Только если ты маг или родилась там.
Он на секунду замолчал и добавил:
— Нет, я не маг. Так сложилось, что я из древнего рода, и по идее должен был продолжить его. Но дар во мне так и не проснулся.
Он говорил тихо, ровно, но я слышала за этим ровным голосом многолетняя боль.
— Поэтому я прожил всю жизнь в том мире. Уйти не мог — камень света – пропуск – многие годы лежал в моем кармане неактивным, пустым кристалликом. Но после встречи с тобой он ожил.
Я вглядывалась в него, пытаясь понять:
зачем? Что ему от меня нужно?
— Я знаю, у тебя много вопросов, — сказал он, будто прочитал мои мысли.
— Но только ты можешь помочь. Не спрашивай почему. Не сейчас. Может, потом я смогу найти объяснение.
Он чуть улыбнулся — устало, с горечью.
— Всю жизнь я прожил там, без магии, без дела, без надежды. Думал, так и умру. А потом появилась ты. И я впервые почувствовал… шанс. Пожалуйста. Не отказывай. Я не знаю, чем смогу отплатить, но обещаю: что-то найду.
Он смотрел прямо в глаза, и впервые я видела не ярость, не гордыню — а отчаяние.
И мне стало страшно. В этом отчаянии было что-то знакомое.
Мы бродили по городу, растворяясь в толпе фестиваля. Тайлер говорил, и я ловила себя на том, что слушаю не только смысл, но и сам звук его голоса. Бархатный, низкий, с паузами — такими, что по коже пробегали мурашки. Иногда он замолкал, и в этой тишине было что-то гипнотическое. А потом снова начинал, и мне казалось, он буквально задевает меня изнутри словами.
Он рассказывал о семье. О том, как его род веками занимал высшие посты в магическом мире. Для меня всё это было почти сказкой: я привыкла к оборотням и вампирам, это моя реальность, моя кровь. Но маги — это было новым, чужим, но почему-то манящим.
Я пыталась расспросить. Как это — жить в том мире? Почему он там остался? Что произошло? Но Тайлер ускользал от прямых ответов, обходил углы, как будто любое лишнее слово могло сорваться с языка и разрушить хрупкий баланс.
Единственное, что он сказал, —проклятие.
— Я хочу понять, что коснулось моей семьи, — тихо произнёс он.
— Почему оно ударило именно по мне.
И всё. Точка. Дальше он закрылся.
Папа грянул словно гром среди ясного неба.
«Зашёл посмотреть на твоё новое детище» — сказал он, и в голосе звучала гордость. Но я знала: папа никогда не приходит просто так.
Мастерская сияла солнцем сквозь большие окна, пахла свежим деревом и краской. Он ходил по залу медленно, высматривая каждую деталь. Похвалил полки, потрогал столы, даже взял наждачку и начал возиться с каким-то куском дерева — слишком уж старательно, чтобы это выглядело естественным.
— Хорошо у тебя тут, — заметил он, с той особой улыбкой, которую носил, когда хотел понравиться, но на самом деле думал о другом. —
Знаешь, тебе нужен сайт. С фотографиями, с онлайн записью. Цену за посещение можно смело поднимать, поверь мне.
Я кивала, но внутри настороженность не отпускала. Каждое его движение было слишком выверено. Я видела, как он будто между делом бросает взгляды на меня — не на мастерскую, не на инструменты. На меня. Внимательно, прицельно, так, что кожа чуть ли не начинала зудеть.
Он вынюхивает. Волк, проверяющий, не притащила ли его дочь домой чужой запах.
Я держала хорошую мину, научилась ещё в школе. Спокойно улыбалась, поддакивала, даже пошутила пару раз. Ни одна мышца на лице не дрогнула. Он так и ушёл — с тем же добродушием, будто действительно просто заглянул посмотреть мастерскую.
Папа заподозрил.
Как это обычно бывает — сначала он просто задерживался у меня подольше, потом оставил пару вещей, а потом… да кого я обманываю, Тайлер довольно быстро и достаточно заметно переехал. Я не возражала. Вдвоём оказалось даже веселее. Хотя «вдвоём» — громко сказано. Он появлялся дома в основном для того, чтобы поспать и полистать пару книг.
Всё остальное время Тайлер пропадал в магической академии. Его дар начал проявляться, и он схватился за него, будто тонущий за соломинку. Вкладывал всего себя, стараясь наверстать годы, которые у него украли. А лет этих было немало — по человеческим меркам ему под семьдесят. И только теперь он наконец-то получил шанс быть тем, кем должен был родиться.
Я сама в академию не ходила. Честно? Стрёмненько. Не моё. А вот он там будто оживал.
И вот однажды он вернулся с фиолетовой совой на плече. Сова смотрела на меня так, будто видела насквозь.
— Знакомься, — сказал Тайлер.
— Это Гамлет. Мой волшебный питомец. Нашёл меня сам.
Я чуть не прыснула:
«Питомец? Да он больше похож на учителя».
— Это редкость, — продолжил он, совершенно серьёзно.
— Совы почти никогда не выбирают себе хозяев. Они связаны с Луной и прилетают только к лунным чародеям.
Эта фраза кольнула. Луна, сова, древние связи — слишком уж многое в последнее время вращалось вокруг моей семьи и её тайн. Но я лишь кивнула, сделав вид, что не придаю этому значения.
Мало ли совпадений в мире, верно?
Морда, конечно, не оценил. Ворон с первого дня взъерошился, когда увидел этого крылатого пришельца. Прыгал за мной по дому, каркал недовольно и старался занять всё видимое пространство — ревнивец.
ТАЙиКО — так я прозвала его новую алхимическую лабораторию, — поселился на втором этаже. Тайлер притащил откуда-то огромный чугунный котёл, а рядом поставил стол, увешанный полочками, ящиками, баночками. В них лежало всё: сухие травы, грибы, что-то, похожее на засушенных насекомых… Когда я увидела это вплотную, меня прямо передёрнуло.
Морда же, наоборот, заинтересовался. Старый ворон с тех пор только и делает, что пытается взломать дверь в его комнату, словно там хранится самая изысканная коллекция деликатесов. Иногда я слышу, как он клювом стучит по ручке — и мне становится смешно:
ворон против магического шкафа.
Тайлер часами возился с котлом. Шуршал травами, молол корешки, что-то варил, и весь дом наполнялся то сладким, то горьким, то странно металлическим запахом. И именно за этим процессом у нас часто завязывались разговоры.
С ним было легко — он читал так много, что умел соединять вещи, которые в моей голове никогда бы рядом не стояли. Иногда мы спорили, иногда просто обменивались мыслями, и время текло странно: казалось, что прошли минуты, а на самом деле пролетали часы.
Я замечала — он не спит. Почти совсем.
— Маги знают зелья, — объяснял он. —
Они позволяют обходиться без сна, еды, даже без привычных человеческих слабостей.
И мне казалось: он молодеет. Черты лица становились острее, взгляд — живее, движения — быстрее. Как будто дар, который наконец-то расправил в нём крылья, возвращал ему не только силы, но и время.
Однажды он попросил меня сделать расклад Таро. Я фыркнула:
«Ты же маг, зачем тебе карты?» Но он настоял.
Карты легли странно. Они толкали его в риск, буквально кричали: «Пора». Я смотрела на рисунки и не понимала. А он — понял. Это было видно по тому, как в глазах у него зажёгся огонь. Для него это стало сигналом.
А я… я только крепче держала оборону. Потому что в это же время моя семья медленно, но верно начинала давить на меня — намёками, звонками, визитами. Но я не собиралась отступать. Я еще сама не разобралась в происходящем, их любопытные морды тут совсем ни к чему.
И смех, и грех — Тайлер как-то слишком удачно вписался в мой дом. Со стороны, наверное, выглядело, будто мы семья. Но не совсем: у каждого были свои дела, свои тайны, своя жизнь.
Он был человеком — и это ощущалось каждый день. Ему нужно было есть, и вот кухня, которой я раньше пользовалась от силы раз в бесконечность, превратилась в его царство. Тайлер сам готовил, мыл посуду, вытирал столы — и я, честно, была в шоке. Насколько я успела его узнать, он всегда был педант и привереда, но на кухне превращался в добросовестную домохозяюшку.
Морда, конечно, не мог оставить это без комментариев. Каждый раз, когда Тайлер ставил тарелку с едой, ворон устраивал целый спектакль: садился рядом, таращился на тарелку и издавал такие звуки, будто его обидели на всю жизнь. Особенно, если еда пахла мясом. Тогда он ходил за Тайлером по пятам, как прокурор.
Чтобы не выглядеть полным нахлебником, мой гость даже начал приносить в дом деньги. Правда, получилось это очень по-тайлеровски. Сначала он где-то подцепил лихорадку и несколько дней кашлял так, будто собирался выплюнуть лёгкие. В итоге откашлялся симолеонами — в буквальном смысле. Я до сих пор не понимаю, как именно, но факт: деньги появились.
Он быстро сориентировался в возникшей ситуации и нашёл себе подработку — стал натуропатом. Больных людей много, к врачам идут не все, а он со своим котлом и баночками стал собирать заказы. Варил зелья, сушил травы и продавал всё это через интернет. И, надо сказать, бизнес у него пошёл.
Морда, конечно, был в ярости: новые коробки с ингредиентами занимали его любимые места. Он несколько раз пытался вскрыть посылки, и я ловила его с клювом в скотче. Тайлер вздыхал, я смеялась, а ворон ворчал так, будто мы предали его самое святое.
Тайлер в последние месяцы возвращался домой так, будто его прогоняли сквозь жернова. Уставший, бледный, иногда даже шатался. Я пару раз, грешным делом, подумала:
ну всё, привет, дедушка, твои семьдесят наконец сказали своё слово.
Но он только улыбался и уверял:
— Я учусь дуэлям. Это нормально.
«Нормально», ага. Выглядел он так, будто его только что вынули из мясорубки.
— А зачем тебе это вообще? — спросила я однажды.
Он чуть заметно отвёл взгляд, подозрения занозой вонзились где-то в районе правой пятки.
— Любой маг должен уметь за себя постоять.
Прозвучало правдоподобно, но слишком уж сухо. Он что-то недоговаривает.
Иногда, когда мы всё же разговаривали по душам, он говорил одно и то же:
— Я слишком долго шёл к этому. Сколько бы раз ни падал, я не остановлюсь. Даже, если меня разорвёт изнутри.
О чём именно он говорил, какую цель имел в виду — молчал. Упрямо.
И вот это молчание стало хуже любого объяснения. Месяцы неопределённости подтачивали меня изнутри. Сначала я пыталась не обращать внимания, потом шутила, потом злилась.
И в эти моменты я ловила себя на странной мысли: его борьба — это не только его борьба. Она каким-то образом связана с моей семьёй. С тем, что говорила Элис, с тайнами отца, с тем миром, где мне не место, но где я всё равно оказалась.
Я старалась держать эмоции при себе, но внутри всё активнее запускался моторчик:
или он наконец расскажет, или я узнаю сама.
Я вернулась домой после тяжёлого заседания — пятнадцать лет брака, два ребёнка, собака, и всё это делят как старую скатерть. В голове гудело, хотелось тишины. Но вместо этого я увидела… молнии.
Тайлер сидел на диване, и вокруг него искрила энергия. Будто он стал катушкой Теслы, выбрасывающей разряды в воздух. Я замерла на пороге.
— Ээээ… ты в порядке? — голос дрогнул, хотя я старалась говорить ровно. —
Выглядишь… очень странно.
Он поднял глаза. И я вздрогнула: в них тоже плясали молнии.
— Киана, — сказал он тихо, но в этом тихом был грохот. —
Тебе знакомо имя Джон Волков?
Сердце ухнуло. Казалось, я ослышалась.
— Кто?..
— Джон Волков, — повторил он и поднялся. Его тело дрожало, будто в нём текла не кровь, а электричество. Он сделал круг по комнате и сел в кресло.
— Садись. Я хочу рассказать.
Я села, сжав руки в замок.
— Всё это время, — начал он, —
я не только учился. Я искал. Помнишь, я говорил про проклятие? Я нашёл кое-что.
Он говорил долго. О семье Шарм — одной из древнейших магических линий. О несчастье, когда мир разорвало избыточным зарядом. О том, что его мать полюбила чужака. Волка. Джона Волкова.
— Он не был магом, — продолжал Тайлер.
— Он был оборотнем. У него была семья в другом мире. И всё равно… она любила его до конца своих дней.
Я слушала, и у меня пересыхало во рту. Фамилия Волков — моя фамилия. Это не было случайностью.
— Моя тётя тоже его полюбила, — голос Тайлера стал жёстким. —
Но не смогла пережить отказ. Она прокляла мою мать и весь её род. Сказала, что мы никогда не будем владеть магией, никогда не будем иметь ценности, будем обречены на страдания.
Я замерла. Проклятие. В моей семье тоже слишком часто звучало это слово, только его всегда прятали под ковёр.
— Она сама мне это рассказала, — добавил он.
— Я вызвал её на дуэль. Выиграл. Выжал из нее информацию.
Он замолчал, и я почувствовала, как по спине пробежали мурашки.
— Жива ли она… не знаю, — наконец сказал Тайлер.
— Но после этого я понял: проклятие можно сломать. Я чувствую, что во мне течёт магия, и я уже сильнее многих, кто рождён с даром. Я научился управлять собственным зарядом. Это только начало.
Он снова посмотрел на меня — и в его глазах вспыхнул свет, от которого стало и страшно, и странно гордо.
Я была рада за него? Наверное. Но меня интересовало другое. Как Джон попал в его мир? Почему не вернулся? Что он там делал? Ответы на эти вопросы пока так и остались висеть в воздухе.
После того разговора Тайлера будто перекроили. Я не узнавала его. Вместо скромного, тихого мужчины, всегда чуть согнутого под тяжестью собственной судьбы, теперь рядом со мной стоял человек, излучающий силу. Его движения были чёткими, голос уверенным, а взгляд — таким прямым, что я невольно отводила глаза. От него исходила такая энергия, что мне хотелось держать дистанцию, иначе начинало потряхивать.
И вот однажды — ситуация, которую я не забуду никогда.
Я возвращалась домой поздно вечером, после очередного заседания. Было холодно, воздух резал кожу. Я вышла из машины и заметила Тайлера. Он ждал меня прямо на улице, в куртке, с руками в карманах. Сколько он так стоял на ветру — не знаю.
Он поднял на меня глаза. В его позе не было ни тени сомнения, и от этого по спине побежали мурашки.
— Киана, — произнёс он тихо, но в этом тихом звучала такая решимость, что сердце пропустило удар. —
До конца своих дней я буду благодарен тебе. Ты сделала то, чего не делал для меня никто. Благодаря тебе я нашёл смысл. Благодаря тебе понял свою цель. Чёрт возьми, благодаря тебе я вообще начал жить!
Я замерла, не в силах вымолвить ни слова.
— За это, — он сделал шаг ближе, —
я в долгу перед тобой на всю жизнь. Я хочу подарить тебе силу. Чтобы у тебя всегда была мощь идти вперёд и преодолевать всё, что встретится на дороге. Я знаю свой путь. Теперь меня уже никто не остановит. Спасибо тебе.
Я едва успела вдохнуть. Он подошёл, обнял меня — крепко, так, что я почувствовала его дрожь и жар. И поцеловал. В губы.
Мир остановился. Я стояла в полном шоке, как статуя.
Мы же… мы даже не…
Но как быстро это случилось, так же быстро всё и кончилось. Тайлер отпустил меня, развернулся — и исчез в темноте, словно его проглотила ночь.
А я осталась стоять посреди промозглой улицы, с ледяным ветром в лицо и единственной мыслью:
Это что, шутка такая?..



















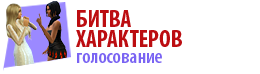











































































































































































































































































































 74 лайка.
74 лайка. 9 “что за прикол?”.
9 “что за прикол?”. 1 “напиши в ЛС, я гибкая”.
1 “напиши в ЛС, я гибкая”.






























































